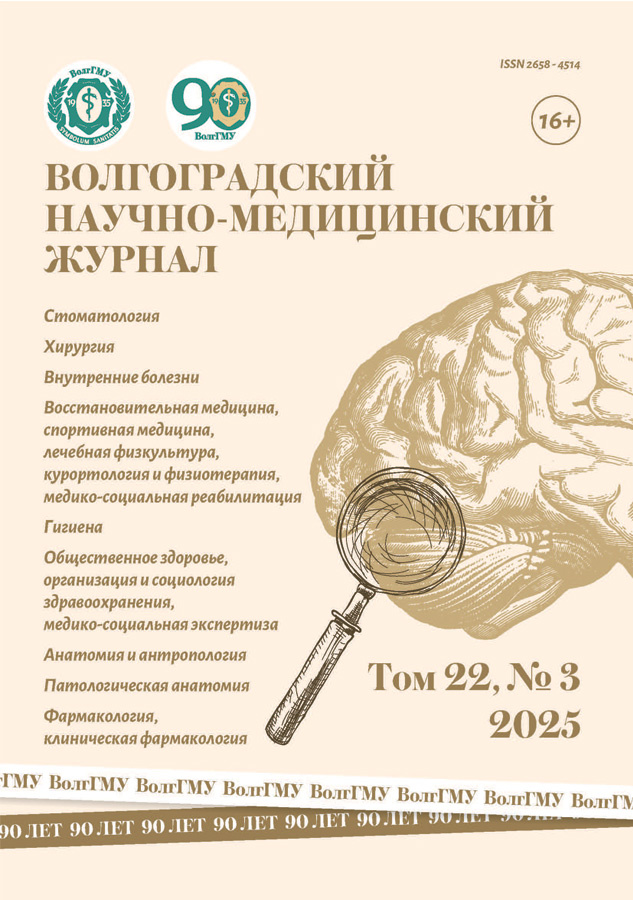Analgesic activity of the new A1/A2a agonist, the Cl–Ala-OH-AR compound
- Autores: Pshenichnikova M.S.1, Yakovlev D.S.1, Spasov A.A.1, Musaev R.I.1, Adzhienko K.I.1, Usacheva M.L.1, Dorofeeva E.V.2, Berzina M.Y.2, Yeletskaya B.Z.2, Konstantinova I.D.2
-
Afiliações:
- Volgograd State Medical University
- Shemyakin and Ovchinnikov Institute of Bioorganic Chemistry, Russian Academy of Sciences
- Edição: Volume 22, Nº 3 (2025)
- Páginas: 12-18
- Seção: Articles
- ##submission.datePublished##: 05.10.2025
- URL: https://clinpractice.ru/2658-4514/article/view/691976
- DOI: https://doi.org/10.19163/2658-4514-2025-22-3-12-18
- ID: 691976
Citar
Texto integral
Resumo
In this study, the analgesic activity of the Cl-Ala-OH-AR compound was evaluated in various models of somatogenic somatic pain. The results showed that the Cl-Ala-OH-AR compound significantly increases the latency of the reaction in tests of the formation of thermal somatic pain, such as "Hot plate" and "Tail Twitching", however, its effectiveness was lower than that of tramadol and adenosine. In the algogen-induced somatic pain model evaluated in the formalin test, Cl-Ala-OH-AR demonstrated more pronounced analgesic properties, especially in the inflammatory phase, where the reduction in pain reactions was 3.4 times greater than the effect of adenosine. These results indicate a significant analgesic potential of Cl-Ala-OH-AR in the context of somatogenic somatic pain caused by algogens, which opens up prospects for further study.
Palavras-chave
Texto integral
Разработка новых обезболивающих средств с нехарактерными для типичных анальгетиков механизмами действия представляет собой актуальную задачу в области медицины и фармакологии. Это обусловлено множеством факторов, включая растущую потребность в эффективных болеутоляющих средствах, необходимость снижения частоты побочных эффектов, характерных для наиболее часто используемых групп препаратов, таких как нестероидные противовоспалительные средства (НПВС), анальгетики центрального действия, а также увеличением случаев хронической боли и ее резистентности к традиционным методам лечения.
Существующие препараты, несмотря на их эффективность, при длительном применении часто вызывают серьезные побочные эффекты, такие как синдром гастродуоденопатии, бронхоспазм, агранулоцитоз, острый нефрит.
Опыт разработки новых аналогов в классе, как правило, не позволяет выйти далеко за рамки наличия перечисленных негативных реакций, поскольку в первую очередь их проявление является результатом продолжения основного механизма действия – влияния на циклооксигеназы, синтез простагландинов E, блокада ионных каналов. В этой связи поиск и разработка анальгетиков с альтернативными механизмами действия становится актуальной проблемой для современных исследований.
К настоящему времени накоплены фундаментальные данные об анальгетическом потенциале естественного нуклеозида – аденозина, способного снижать болевую чувствительность [1]. Считается, что это связано с влиянием на аденозиновые рецепторы подтипов 1 и 2A, представляющих собой перспективные мишени для разработки новых обезболивающих средств [2, 3].
Аденозиновые 1 и 2А рецепторы играют ключевую роль в ослаблении ноцицептивного сигнала из-за специфической локализации в областях, участвующих в передаче боли. Рецепторы А1 присутствуют на чувствительных нервных окончаниях в дорсальных рогах спинного мозга, распределяясь в постсинаптических телах нейронов и отростках дорсальных поверхностных слоев (пластинка II). Эта область играет ключевую роль в передаче сигналов аденозина и активно участвует в его выработке. Участие A2A аденозиновых рецепторов в антиноцицептивных реакциях обусловлено их воздействием на глию спинного мозга [4].
Антиноцицептвная роль аденозиновых 1 рецепторов подтверждена рядом экспериментальных данных. В исследовании, посвященном супраспинальному обезболивающему эффекту, показано, что агонист А1, соединение 2'-Me-CCPA, введенное в серозную оболочку периакведуктального канала (PAG), уменьшало болевые реакции в формалиновом тесте [5]. У крыс с нейропатической болью агонист А1, соединение CPA снижало чувствительность к тепловым и механическим раздражителям [4]. При этом данное соединение проявляло антиноцицептивные реакции и при висцеральной боли повышало пороговый объем рефлекса сокращения брюшной стенки, вызванный растяжением толстой кишки у крыс [6].
Исследования, изучающие участие 2А аденозиновых рецепторов в регуляции боли, показали, что соединение LASSBio-1359, новый агонист A2А рецепторов, уменьшает гипералгезию у мышей, вызванную воспалительными процессами [7]. Также есть данные и об антиноцицептивной роли стимулированных A2A рецепторов на моделях нейропатической боли. Однократное введение агонистов, таких как соединения ATL313 и CGS21680, приводило к обезболивающему эффекту, который сохранялся в течение многих недель и устранял термическую гипералгезию, а также снижало маркеры активации микроглии и астроцитов [8].
В предыдущих исследованиях совместно с лабораторией биосинтеза низкомолекулярных физиологически активных соединений ГНЦ ИБХ РАН был выявлен ряд новых частичных агонистов A1 аденозиновых рецепторов [9]. Новое соединение этой серии – А1/А2а агонист Cl-Ala-OH-AR – рибозидное производное пурина, аналог аденозина, превосходящий его по рецепторной активности, имеющее низкий цитотоксический профиль и представляющее потенциальный интерес для дальнейшего фармакодинамического изучения.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Изучение анальгетических свойств соединения Cl-Ala-OH-AR.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Изучаемое соединение Cl-Ala-OH-AR было синтезировано в Государственном научном центре Институте биоорганической химии им. академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова.
Данное новое химическое соединение является производным аденозина с атомом хлора во втором положении и группой аланинола в положении N6. Химическая формула соединения: 6-(1-гидроксип-ропан-2-ил)амино-2-хлор-9-бета-D-рибофурано-зилпурин, молекулярная масса составляет 359,1 г/моль. Соединение хорошо растворяется в диметилсульфоксиде и воде.
Исследование для оценки обезболивающего эффекта соматогенной термической соматической боли, контролируемой спинальными структурами, проводили с использованием стандартного теста «Отдергивание хвоста» [10] (Tail Flick) на установке Dynamic Plantar Aesthesiometer 37450-001. Оценку соматогенной термической боли, контролируемой супраспинальными структурами, проводили с помощью теста «Горячая пластина» [10] (Hot plate) на установке H/C plate 35150-001 производства UgoBasile. Антиноцицептивное влияние соединений на соматогенную соматическую боль, вызванную альгогенами, изучали в формалиновом тесте [11].
Проводимые эксперименты были одобрены независимым этическим комитетом (Региональный номер IRB 00005839 IORG 0004900 (OHRP), справка № 2024/240 от 23.10.2024).
Эксперименты выполнены на 60 беспородных белых мышах – самцах, массой 23–39 грамм (питомник лабораторных животных «Столбовая», Москва, Россия). В течение 7 дней до исследования все животные подвергались хендлингу для минимизации возможных стрессогенных поведенческих реакций. Перед началом эксперимента животные случайным образом распределялись по группам с различными исходными значениями латентного периода основного регистрируемого показателя в каждом из тестов. Мышей, у которых латентный период реакции «облизывания лапки» превышал 8 секунд в тесте с горячей пластиной и реакции «отдергивания» 15 секунд в тесте на отдергивание хвоста, а также тех, у кого латентный период был менее 5 секунд, в эксперимент не включали.
Для тестов «Отдергивание хвоста» и «Горячая пластина» были сформированы 6 экспериментальных групп по 5 животных в каждой: группы, которым перорально вводили соединения Cl-Ala-OH-AR, аденозин в эквимолярных дозах 1 и 0,1 мг/кг [12], группа, получавшая трамадол в дозе 5 мг/кг, а также контрольная группа с введенным растворителем (дистиллированная вода). Чтобы свести к минимуму количество животных в исследованиях, тесты проводили последовательно в тех же группах.
Для теста «Формалиновая гипералгезия» животные были аналогичным образом разделены на 6 групп: группы, получавшие перорально соединения Cl-Ala-OH-AR, аденозин в аналогичных дозах 1 и 0,1 мг/кг, группа, которой вводили диклофенак в дозе 10 мг/кг, а также контрольная группа, получавшая растворитель (дистиллированную воду). Изучаемые соединения и препараты сравнения вводили перорально за 30 минут до тестирования.
В тесте «Отдергивания хвоста» интенсивный световой луч фокусировался на хвосте животного, после чего запускался таймер. Таймер останавливали в момент, когда животное взмахивало хвостом, и фиксировали время (латентность), что использовалось в качестве показателя болевого порога. Для предотвращения повреждения тканей время теста ограничивалось 15 секундами [10].
При проведении теста «Горячая пластина» рабочую зону установки нагревали до 55 °C, затем в центр пластины помещали экспериментальное животное и фиксировали время «первого облизывания задней лапы» и «прыжок». Для предупреждения повреждения конечностей, максимальное экспериментальное время составляло 1 минуту. Критерием анальгетического эффекта считали достоверное увеличение латентного периода реакции фиксируемых реакций [10].
В тесте «Формалиновая гипералгезия» в подушечку задней лапы мыши вводили 20 мкл 2%-го раствора формалина, после чего наблюдали за болевой реакцией животного в двух фазах: с 1 по 10 минуту – острая фаза боли, и с 11 по 60 минуту – фаза воспалительной боли. Фиксировали постукивания, вздрагивания, полизывания травмированной лапы [11].
Статистическая обработка полученных данных проводилась с применением программного обеспечения GraphPad Prism v.8, анализ достоверности отличий, полученных данных проводили с применением теста Краскелла – Уоллиса, с посттестом Данна. Отличия в группах считали статистически значимыми при значении p < 0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Валидность моделей термической соматической боли «Горячая пластина» и «Отдергивание хвоста» была подтверждена в группе животных с трамадолом, где были отмечены выраженные эффекты увеличения латентного периода по фиксируемым параметрам «облизывание лапы», «подпрыгивание» и «отдергивание хвоста».
На описанных моделях, при введении изучаемого вещества отмечались дозозависимые анальгетические эффекты. Так, в дозе 0,1 мг/кг увеличение латентного периода незначительно и неотличимо от аналогичного показателя контрольной группы животных. В дозе 1 мг/кг для соединения Cl-Ala-OH-AR отмечалось выраженное снижение реакции на болевой раздражитель, достоверно отличавшееся от реакции в контрольной группе, и не уступающее действию аденозина.
При этом выраженность анальгетических эффектов А1/А2а агонистов уступает эффективности анальгетика трамадола. Полученные данные представлены в табл. 1.
Таблица 1
Влияние соединений Cl-Ala-OH-AR, аденозина и трамадола на латентный период ноцицептивных реакций в тестах «Горячая пластина» и «Отдергивание хвоста»
Соединение | Доза, мг/кг | Латентный период реакции, с (M ± SD) | ||
Тест «Горячая/холодная пластина» | Тест «Tail-Flik» | |||
Облизывание задней конечности | Подпрыгивание | Отдергивание хвоста | ||
Контроль (растворитель) |
| 6,58 ± 0,6 | 33,1 ± 6,3 | 7,2 ± 0,6 |
Трамадол | 5 | 22,8 ± 6,1* | 58,90 ± 2,6* | 13,3 ± 1,6* |
Аденозин | 1 | 14,1 ± 5,5* | 58,7 ± 1,6* | 12,2 ± 1,2* |
Аденозин | 0,1 | 10,8 ± 1,3 | 53,7 ± 11,5* | 7,07 ± 2,6 |
Cl-Ala-OH-AR | 1 | 12,3 ± 1,6* | 56,9 ± 3,4* | 12,0 ± 0,9* |
Cl-Ala-OH-AR | 0.1 | 11,1 ± 4,6 | 26,9 ± 21,5 | 7,20 ± 0,4 |
* Отличие от контроля статистически значимо (критерий Краскелла – Уоллиса, с посттестом Данна, p < 0,05).
На модели формалиновой гипералгезии соединение Cl-Ala-OH-AR в дозе 1 мг/кг в острую фазу реакции на болевой раздражитель не уступало активности диклофенаку, но статистически значимо отличалось от показателей контрольной группы животных. В воспалительную фазу реакции изучаемое соединение превосходило действие препарата сравнения диклофенака, а также действие аденозина в эквимолярной дозе. Данные представлены в табл. 2.
Таблица 2
Влияние Аденозина, Cl-Ala-OH-AR и диклофенака при пероральном введении на выраженность формалиновой гипералгезии (M ± SD)
Соединение | Доза, мг/кг | Острая фаза, количество болевых реакций, M ± SD (0–10 минут) | Воспалительная фаза, количество болевых реакций, M ± SD (11–60 минут) |
Контроль (растворитель) |
| 58,6 ± 2,28 | 159,8 ± 19,42 |
Диклофенак | 10 | 26,6 ± 7,63* | 52,2 ± 6,3* |
Аденозин | 1 | 26,7 ± 7,76* | 68,5 ± 9,10* |
Аденозин | 0,1 | 45,0 ± 3,28 | 82,0 ± 5,47 |
Cl-Ala-OH-AR | 1 | 27,2 ± 4,74* | 45,7 ± 7,57* |
Cl-Ala-OH-AR | 0,1 | 51,2 ± 10,42 | 130,7 ± 5,08 |
* Отличие от контроля статистически значимо (критерий Краскелла – Уоллиса, с посттестом Данна, p < 0,05).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В рамках проведенного исследования анальгетической активности соединения Cl-Ala-OH-AR была оценена его эффективность в условиях формирования соматогенной термической боли и соматической боли, вызванной альгогенами.
В тестах «Горячая пластина» и «Отдергивание хвоста» для соединения Cl-Ala-OH-AR получили статистически значимое увеличение латентного периода реакции, составившее 12,3 и 12 секунд соответственно. Однако на этих моделях эффективность изучаемого соединения оказалась ниже по сравнению с трамадолом и не отличалась от аденозина, для которых латентный период реакции составил 22,8 и 14,1 секунды (тест «Горячая пластина»), а также 13,3 и 12,2 секунды (тест «Отдергивание хвоста»). Эти данные указывают на наличие умеренной анальгезирующей активности соединения Cl-Ala-OH-AR в контексте соматической термической боли, контролируемой спинальными и супраспинальными структурами.
На модели соматогенной соматической боли, вызванной альгогенами, оцененной с использованием формалиновой гипералгезии, для соединения Cl-Ala-OH-AR были установлены более выраженные анальгезирующие свойства.
В острую фазу моделирования гипералгезии при введении изучаемого вещества снижалось количество болевых реакций в 2,2 раза относительно группы контроля, что сопоставимо с эффектом аденозина. В воспалительной фазе выявлено наибольшее снижение числа болевых паттернов: их количество уменьшилось в 3,4 раза, в то время как в группе аденозина – в 2,3 раза.
Таким образом, результаты исследования указывают на то, что соединение Cl-Ala-OH-AR проявляет анальгетическую активность в условиях моделирования соматической термической боли и при воспалительной гипералгезии.
Sobre autores
Mariya Pshenichnikova
Volgograd State Medical University
Autor responsável pela correspondência
Email: mariyaseryogina179802@mail.ru
ORCID ID: 0000-0002-2043-8283
Senior Laboratory Assistant
Rússia, VolgogradDmitry Yakovlev
Volgograd State Medical University
Email: dypharm@list.ru
ORCID ID: 0000-0001-8980-6016
Professor of the Department, Doctor of Medical Sciences
Rússia, VolgogradAlexander Spasov
Volgograd State Medical University
Email: aspasov@mail.ru
ORCID ID: 0000-0002-7185-4826
Head of the Department, MD, Academician of the Russian Academy of Sciences, Professor
Rússia, VolgogradRaul Musaev
Volgograd State Medical University
Email: raulraulraul76@gmail.com
ORCID ID: 0009-0006-3973-0184
Assistant Professor
Rússia, VolgogradKristina Adzhienko
Volgograd State Medical University
Email: Kris959688@yandex.ru
ORCID ID: 0009-0003-2860-8456
Assistant Professor
Rússia, VolgogradMaria Usacheva
Volgograd State Medical University
Email: maria.l.usacheva@gmail.com
student
Rússia, VolgogradElena Dorofeeva
Shemyakin and Ovchinnikov Institute of Bioorganic Chemistry, Russian Academy of Sciences
Email: iegol2013@gmail.com
ORCID ID: 0000-0001-7911-1747
Researcher at the Laboratory
Rússia, MoscowMaria Berzina
Shemyakin and Ovchinnikov Institute of Bioorganic Chemistry, Russian Academy of Sciences
Email: berzina_maria@mail.ru
ORCID ID: 0000-0002-5684-8188
Researcher at the Laboratory, Candidate of Chemical Sciences
Rússia, MoscowBarbara Yeletskaya
Shemyakin and Ovchinnikov Institute of Bioorganic Chemistry, Russian Academy of Sciences
Email: fraubarusya@gmail.ru
ORCID ID: 0000-0002-9552-7141
Researcher at the Laboratory, Candidate of Chemical Sciences
Rússia, MoscowIrina Konstantinova
Shemyakin and Ovchinnikov Institute of Bioorganic Chemistry, Russian Academy of Sciences
Email: kid1968@yandex.ru
ORCID ID: 0000-0001-5563-6549
Leading Researcher, Head of the Laboratory, Candidate of Chemical Sciences
Rússia, MoscowBibliografia
- Zhou M., Wu J., Chang H., Fang Y., Zhang D., Guo Y. Adenosine signaling mediate pain transmission in the central nervous system. Purinergic Signal. 2023;19(1):245-254. doi: 10.1007/s11302-021-09826-2.
- Gomes C., Ferreira R., George J., Sanches R., Rodrigues D. I., Gonçalves N. et al. Activation of microglial cells triggers a release of brain-derived neurotrophic factor (BDNF) inducing their proliferation in an adenosine A2A receptor-dependent manner: A2A receptor blockade prevents BDNF release and proliferation of microglia. J. Neuroinflammation. 2013;10:780. doi: 10.1186/1742-2094-10-16.
- Varani K., Vincenzi F., Merighi S., Gessi S., Borea P. A. Biochemicaland Pharmacological Role of A1 Adenosine Receptors and Their Modulation as Novel Therapeutic Strategy. Adv. Exp. Med. Biol. 2017;1051:193–232. doi: 10.1007/5584-2017-61.
- Sawynok J. Adenosine receptor targets for pain. Neuroscience. 2016;338:1–18. doi: 10.1016/j.neuroscience. 2015.10.031.
- Maione S., de Novellis V., Cappellacci L., Palazzo E., Vita D., Luongo L. et al. The antinociceptive effect of 2-chloro-2′-C-methyl-N6-cyclopentyladenosine (2′-Me-CCPA), a highly selective adenosine A1 receptor agonist, in the rat. Pain. 2007;131:281–292. doi: 10.1016/j.pain.2007.01.013.
- Okumura T., Nozu T., Kumei S., Takakusaki K., Miyagishi S., Ohhira M. Adenosine A1 receptors mediate the intracisternal injection of orexin-induced antinociceptive action against colonic distension in conscious rats. J. Neurol. Sci. 2016;362:106–110. doi: 10.1016/j.jns.2016.01.031.
- Godfrey L., Yan L., Clarke G. D., Ledent C., Kitchen I., Hourani S. M. Modulation of paracetamol antinociception by caffeine and by selective adenosine A2 receptor antagonists in mice. Eur. J. Pharmacol. 2006;531:80–86. doi: 10.1016/j.ejphar.2005.12.004.
- Vincenzi F., Pasquini S., Borea P. A., Varani K. Targeting Adenosine Receptors: A Potential Pharmacological Avenue for Acute and Chronic Pain. Int J Mol Sci. 2020;21(22):8710. doi: 10.3390/ijms21228710.
- Berzina M. Ya., Eletskaya B. Z., Kayushin A. L., Dorofeeva E. V., Lutonina O. I., Fateev I. V. et al. Synthesis of 2-chloropurine ribosides with chiral amino acid amides at C6 and their evaluation as A1 adenosine receptor agonists. Bioorganic Chemistry. 2022;126:105878. doi: 10.1016/j.bioorg.2022.105878.
- Chaika A.V., Cheretaev I. V., Khusainov D. R. Methods of experimental preclinical testing of the analgesic effect of various factors on laboratory rats and mice. Uchenye zapisi Krymskogo federal'nogo universiteta im. V. I. Vernadskogo = Scientific records of the Vernadsky Crimean Federal University. 2015;1(67);161–173. (In Russ.).
- Guidelines for conducting preclinical studies of medicines. Scientific Center for expertise of medical devices of the Ministry of Health and Social Development of Russia. Volume Part 1. Moscow : Vulture and K, 2012. 944. (In Russ.).
- Lesteva N. A., Rumyantseva M. V., Terekhov I. S., Vasiliev D. A., Rybakov G. Yu., Kondratiev A. N. Experience of using adenosine-induced cardioplegia in the structure of anesthetic support for endovascular treatment of arteriovenous malformations of the brain. Rossijskij nejrohirurgicheskij zhurnal imeni professora A. L. Polenova = Russian Neurosurgical Journal named after Professor A. L. Polenov. 2025;11(3):20–25. (In Russ.).
Arquivos suplementares